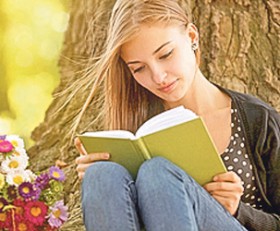
Статья с таким названием была опубликована нашей газетой в начале лета, 11 июня. Тогда же редакция пригласила читателей к разговору о любимой книге. Благо повод для этого есть непосредственный, ведь нынешний год объявлен в России Годом литературы. Отклики на нашу июньскую публикацию последовали не сразу, и они показывают, что страна наша в двадцатом веке не зря считалась самой читающей. Мы опубликовали их в номере за 9 июля, потом последовала еще одна подборка, 30 июля. Сегодня мы знакомим читателей с очередными письмами.
Пыль на переплетах
Уважаемая редакция! Ваша рубрика, конечно, ко времени, но вряд ли она пробудит интерес к книге в частности и чтению вообще. Кто читал, тот читать не перестанет, а кто книгу в руки брал от случая к случаю, тому наши читательские сентенции, извините за прямоту, что мертвому припарка. Неужели вы верите, что за год, «назначенный» в РФ «литературным», люди поменяют телевизор или Интернет на книгу? Вот данные российского Министерства культуры: 35 процентов населения вообще книг не читают, 44 процента за год не открыли ни одной книги, а сам процесс чтения нравится лишь 17 процентам опрошенных.
В детстве я был записан сразу в три библиотеки, включая школьную, а годовую программу внеклассного чтения одолевал за одни зимние каникулы. Взрослым продолжал азартно охотиться за книгами, хотя в пору дефицита на печатную продукцию они доставались непросто. А какие страсти кипели в трудовых коллективах из-за подписки на книжные приложения к журналам! И как мы копили макулатуру, чтобы в пункте приема вторсырья заполучить талон на дефицитное издание!
И что? Мои книжные полки прогибаются под тяжестью собраний сочинений отечественных и зарубежных классиков, но, кроме нас с женой, читать их некому – дети разъехались, внуки далеко. Теперь это, страшно вымолвить, некое кладбище всемирной литературы. Представьте, сколько таких мертвых «книгохранилищ» в подъездах одного только вашего дома? А помножьте их на всю Россию – океан! Вспоминаются слова героини Зои Федоровой из фильма «Девушка без адреса», сказанные домработнице, взявшейся пылесосить книжные полки: «Это не та пыль, с которой надо бороться. Она неподвижная».
Между тем издается немало редких, не печатавшихся ранее книг. Но для человека низкого и даже среднего достатка они недоступны из-за дороговизны. Вспоминаю цены в первом в Казани букинистическом магазине – сегодня я на свою пенсию мог бы скупить в нем все. К сожалению, мечта поэта «когда мужик не Блюхера и не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара понесет» так и не сбылась. Сегодняшний читатель отнюдь не Белинского и Гоголя предпочитает, а коммерческие, «клиповые», детективные романы, подменившие подлинно значимую литературу, отбившие вкус к познавательному, глубокому чтению.
Откликаясь на предложение редакции, называю книгу, оставившую заметный, эмоциональный след в моей жизни, – это драма Ибсена «Пер Гюнт». Наверное, потому что прочитал ее в пору юношеской влюбленности. А началось все с часто звучавшей тогда по радио «Песни Сольвейг» норвежского композитора Грига. Слова, и особенно мелодия, так меня поразили, что захотелось узнать, о ком с такой проникновенной тоской и страстью поет девушка? Так я узнал историю ветреного деревенского повесы и донжуана, оставившего возлюбленную ради поисков истины и вечной любви. Особенно потряс ее финал: Пер Гюнт уже немощным стариком возвращается к постаревшей, ослепшей, но не перестававшей его любить и ждать Сольвейг, и засыпает, уткнувшись в ее колени. «Мать и жена, ты святое творенье!/Дай мне укрыться! Даруй мне спасенье!»
Борис ДРАБКИН
«В дурном обществе»
За свою жизнь я лишь одну книжку прочитал дважды. Это «В дурном обществе» (или «Дети подземелья») Короленко. Первый раз на каникулах в деревне, когда мама подарила мне на день рождения тоненькую книжку с коричневым рисунком на бумажной обложке: двое мальчишек и девочка лет трех-четырех с пучком цветов в руке под деревом у полуразрушенного замка. Запомнились ее глаза – огромные, они казались неподвижными, как у слепой. Девочку звали Марусей, кудрявый, как цыган, мальчик был ее брат, Валек, другой в гимназическом картузе – сын городского судьи Вася, от имени которого и велось повествование.
Книжку я проглотил за один присест! В ней рассказывалось о местных беспризорных, по-нынешнему бомжах, которые тайно ютились в развалинах старинного замка. Самой колоритной фигурой среди них был пан Тыбурций – темная, хотя и образованная личность. Вася подружился с его детьми, приносил им яблоки, еду. Осенью Маруся заболела, перестала ходить. Чтобы развлечь ее, мальчик тайком унес из дома красивую куклу, подарок умершей матери его сестренке Соне. Игрушка произвела чудо – девочка повеселела, встала на ноги. Дома куклы хватились, отец устроил сыну разнос. В этот момент в комнату вошел Тыбурций и сказал, что Маруся умерла. И отец отпустил сына проститься с ней. Еще долго Вася и Соня носили цветы на могилку девочки и, покидая родной городок, произносили над ней свои обеты.
Спустя много лет в чулане рухнувшей родительской избы средь пыльных кринок, керосиновых ламп и дырявых решет я обнаружил пожелтевшую, густо засиженную мухами ту самую книжицу. И вновь, как тогда, не отрываясь, со щемящей нежностью и грустью ее перечитал. Я даже представить не мог, что на излете жизни буду сидеть на развалинах отчего дома и чуть не плача листать старую, 1950 года издания, книжку, так живо и остро воскресившую в памяти далекие, счастливо проведенные здесь дни.
А вот художественный фильм Киры Муратовой «Среди серых камней», снятый по мотивам повести в 1980 году, ничуть меня не тронул. Все верно: самые сильные впечатления человек переживает в детстве…
А. КОРЖАВИН
Читали ль вы?
Честно сказать, давно не брал я книжек в руки! Вот почему с особым удовольствием прочитал книгу Рената Бикбулатова «Казань. Знаменитые люди». В ней собраны статьи о шестидесяти четырех выдающихся личностях, чьи судьбы так или иначе связаны с нашим городом, – от первого правителя Казанского ханства Махмуд-хана до корифея языкознания и полиглота Бодуэна-де Куртенэ. Тем более приятно, что автор – мой старый знакомый и коллега.
Когда я работал в Казани на заводе ЭВМ, Ренат Хайруллович был начальником отдела научно-технической информации. К нам часто приезжали различные комиссии, гостям показывали город, а его приглашали в качестве экскурсовода – лучшего знатока Казани не сыскать. Я тогда еще посоветовал ему заняться писательством. Прошли годы, и вот он дарит мне свою уже десятую по счету книгу. И не какой-нибудь путеводитель для туристов, а уникальную в своем роде историко-краеведческую энциклопедию.
Читая ее главы, я, помимо всего прочего, сделал для себя немало открытий. К примеру, я, родившийся в Свияжске, не знал, что в мае 1798 года во время смотра войск Оренбургской военной инспекции его посетил император Павел I со своим сыном Александром, будущим наследником российского престола. Император сделал здесь последнюю перед Казанью остановку и в тот же день отбыл туда на катере, подготовленном Казанским адмиралтейством.
Такая деталь: на Казанке перед Тайницкой башней кремля катер сел на мель, и высочайшим особам пришлось переправляться на берег в лодке простого лодочника. А сколько интересного узнал я о деятельности казанского купца и благотворителя Якова Шамова, мои представления о котором ограничивались лишь одноименной больницей.
Мне, выпускнику КАИ, небезынтересно было прочитать главу о генеральном авиаконструкторе, академике Андрее Ивановиче Туполеве, при участии которого был создан Казанский авиационный институт, заложено производство, из которого вырос казанский авиазавод. Впервые узнал также о триумфальном полете над Казанью в 1910 году моноплана «Блерио-Х1», управлявшегося нашим земляком авиатором Александром Васильевым, о пионере парашютизма Юзефе Древницком, который в сентябре 1895 года спустился на парашюте-зонтике из гондолы воздушного шара в Панаевский сад (ныне стадион «Динамо»).
Да мало ли других познавательных фактов найдешь в этой книге! Ее можно открыть наугад на любой странице, и ни одна из них не оставит равнодушным.
Герман БОДРОВ
Преданья старины глубокой
 Недавно, разговаривая с художником Булатом Гильвановым, выяснила, что нам обоим нравится одно и то же произведение средневековой волжско-булгарской литературы – поэма Кул Гали «Кыйсса-и Йосыф» ( «Сказание о Йусуфе»). Правда, Булат прочитал ее в 11 лет, а я уже в студенческие годы, но она одинаково нас впечатлила. «Поэма стала для меня настоящим открытием! И я для себя решил, что, когда стану художником, обязательно вернусь к этой теме», – вспоминает Булат. И остался верен детскому обещанию – триптих «Евразия» по мотивам «Сказания о Йусуфе» на межрегиональной выставке «Россия – молодым» в Саратове сделал его лауреатом престижной номинации, а его иллюстрации были отобраны для книги, выпущенной Татарским книжным издательством к 830-летию поэта.
Недавно, разговаривая с художником Булатом Гильвановым, выяснила, что нам обоим нравится одно и то же произведение средневековой волжско-булгарской литературы – поэма Кул Гали «Кыйсса-и Йосыф» ( «Сказание о Йусуфе»). Правда, Булат прочитал ее в 11 лет, а я уже в студенческие годы, но она одинаково нас впечатлила. «Поэма стала для меня настоящим открытием! И я для себя решил, что, когда стану художником, обязательно вернусь к этой теме», – вспоминает Булат. И остался верен детскому обещанию – триптих «Евразия» по мотивам «Сказания о Йусуфе» на межрегиональной выставке «Россия – молодым» в Саратове сделал его лауреатом престижной номинации, а его иллюстрации были отобраны для книги, выпущенной Татарским книжным издательством к 830-летию поэта.
Лиро-эпическая поэма «Кыйсса-и Йосыф» создана на основе истории, переданной в суре «Йусуф» священного Корана, и представляет собой обработку ветхозаветных и коранических преданий о Йусуфе Прекрасном и его 12 братьях. До пророка Мухаммеда жизнеописания благороднейшего пророка Йусуфа не были известны арабам, и противники ислама, дабы испытать его, и желая, чтобы он доказал им свою миссию, стали испрашивать его о Йусуфе. Они были убеждены, что посланник Аллаха не сможет дать им ответы. Тогда и была ниспослана ему сура «Йусуф». В поэме, написанной богатейшим литературным языком, отражены вечные темы: борьбы сил добра и зла, нравственные переживания главных героев, их стремление к счастью – ее с полным правом можно считать народной книгой татар. В прошлых веках люди читали ее, собравшись вместе, причем нараспев, и мне не раз доводилось слышать, что многие читатели, доходя до описания истории о продаже Йусуфа в рабство сводными братьями, плачут.
В предисловии к одному из них есть такие строки:
Помощь – поддержку, разум – силу
находил я у Всевышнего,
Возблагодарил я его
за ниспосланное вдохновение,
Так завершил в сии дни сию книгу свою,
Пусть окажет «пользу и нам, и вам она!»


Работы из триптиха «Евразия»
Пожелание о пользе оказалось пророческим. Текст «Кыйсса-и Йосыф» в разные времена был широко известен на огромной территории страны от Поволжья, Урала и до Сибири, найдено более двухсот старинных рукописных копий произведения, в том числе и за рубежом. Как сказал английский поэт и драматург XVII века Уильям Дэвенант: «Книга – памятник ушедшим в вечность умам». Я рада, что в Татарстане любовно чтят этот литературный памятник – читатель может найти «Сказание» в любой библиотеке республики и разделить мой непреходящий восторг от этого великого творения.
Зиля НИГМАТУЛЛИНА



