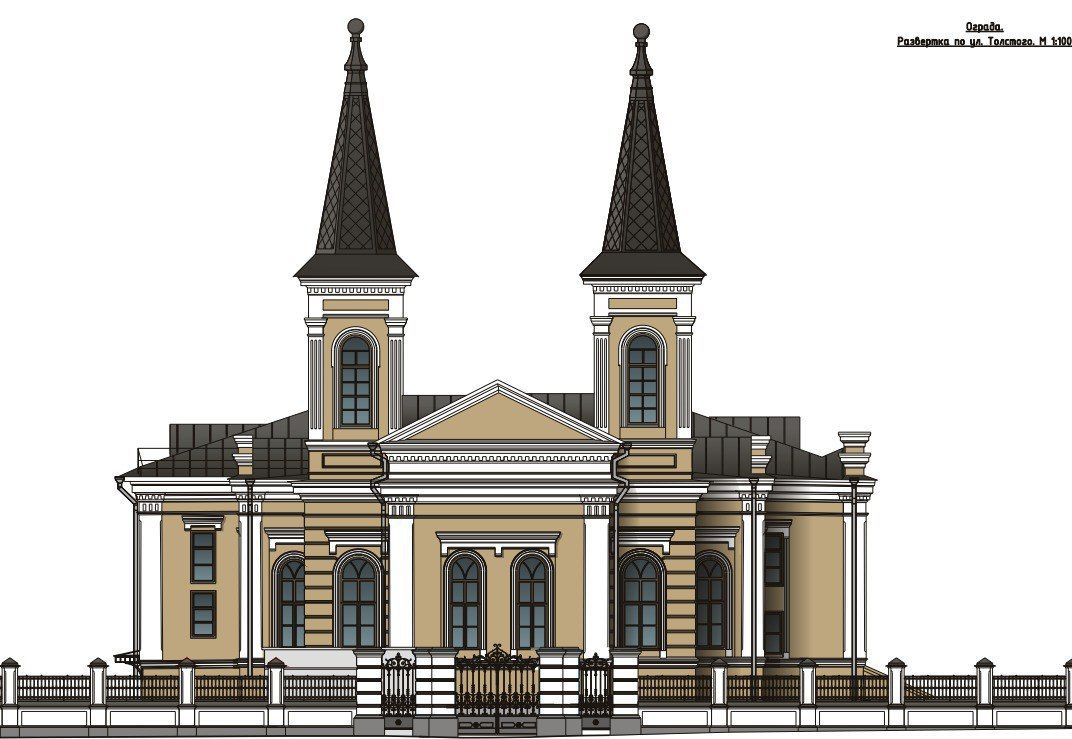К 75-летию народного артиста России и Татарстана Равиля Шарафиева
Сразу хочу оговориться – это не творческий портрет, не театроведческий анализ, хотя личность художника и его вклад в татарскую культуру несомненно заслуживают большего. Это фрагменты воспоминаний и те мысли, что первыми приходят на ум при имени Равиль Шарафиев.
…Мне шесть лет, я впервые в театре. В отличие от сверстников, чье приобщение к этому вечно сиюминутному виду искусства происходило на детских постановках, моим первым театральным опытом стала драма. Скорее всего, мне повезло. В театре им.Г.Камала, что проживал тогда на улице Горького, давали «Нашествие» Леонида Леонова. Спектакль о фашистской оккупации, гражданской стойкости и самопожертвовании шел четыре часа или около того, но ни секунды мне не было скучно, а с первым выходом актера, исполнявшего роль Федора Таланова, интерес к судьбе этого персонажа стал главным содержанием просмотра.
Способ существования актера сильно отличался от того, что делали его партнеры, от того, что я видел на экране старенького черно-белого телевизора «Березка», когда смотрел любимые фильмы про войну. Вернувшийся из сталинских лагерей, но не потерявший человеческого достоинства Федор был сыгран скупыми средствами, без сантиментов, сухо, без пафоса, контрастно к господствовавшей тогда эстетике и идеологии. И еще – Федор постоянно ерничал, и чем дальше, тем более понятным становилось его поведение: боль от несправедливости собственной отсидки, боль от еще большей несправедливости – войны и оккупации, боль от вынужденного одиночества и собственного бессилия. Споря, он нападал на отца, Таланова-старшего, врача и гуманиста, с глумливой интонацией и вместе с тем затаенной нежностью. А затем буднично совершал подвиг, буднично «сбривал» нарисованную щетину и с ней всю свою прошлую жизнь.
Лучший тип драматического конфликта – столкновение плохого с худшим в традициях классических трагедий! Я актеру верил, но по малолетству не знал, что такой способ игры называется психологическим гротеском. Ни о чем таком я, слава богу, не думал. Тогда, в начале 1980-х, мне не приходило в голову, насколько это выдающаяся актерская работа. Мне даже не казалось необходимым узнать имя артиста. Помню, меня удивила реакция зала – первый выход Шарафиева сопровождался аплодисментами и… смехом. Это было весьма странно, учитывая предлагаемые обстоятельства пьесы. К счастью, не знал я тогда и о стереотипе зрительского восприятия, об оковах комического амплуа, которые не давали актеру развернуться во всю мощь своего таланта. О том, как часто актерский талант «съедает» зрительская популярность и как сложно противостоять соблазну подсесть на иглу аплодисментов. Но тем ценнее и дороже с моей нынешней профессиональной «колокольни» эти первые наивные театральные впечатления.
Второе знакомство (ну, этим мало кого удивишь) – ангел смерти Ажаль из «Альмандара». Отныне я навсегда запомнил имя актера. Затем Искандер в «Американце» (камаловцы в нашей школе играли фрагмент спектакля, тогда такое случалось). Потом небольшая роль в незаслуженно забытом сегодня спектакле «Как звезды в небе», блистательный Робинзон из «Бесприданницы» и не очень удачный по части режиссерского решения Ходжа Насреддин. И особенно мощно всплывают в памяти его роли последнего десятилетия. Ворон из «Черной бурки», Чебутыкин из «Трех сестер», Басилио из драмы Кальдерона «Жизнь есть сон», Кара Губай из «Женщин
41-го»…
Каждая роль филигранно точна и доведена до совершенства. Чего стоит один его Салахутдин из драмы Туфана Миннуллина «Мулла»! Это тончайшая эквилибристика – баланс на грани дозволенного общественной моралью. Пьющий мулла, знающий от силы две-три молитвы, озабоченный скудостью подаяний односельчан. Чем не мишень для сатиры? Ан нет, в структуре действия персонаж Шарафиева едва ли не живее и трогательнее и уж точно мудрее своего молодого и ученого коллеги. Лично мне он душевно ближе, по-человечески понятнее, симпатичнее. Ибо не берется Салахутдин осуждать других – ему, малограмотному деревенскому мужику, ведомо нечто, находящееся за гранью понимания главного героя. А именно – сострадание и милосердие.
Есть на свете актеры мощного эмоционального начала, знаменитого «нутра», проживающие жизнь персонажа на сцене как собственную. Они ткут на сцене рисунок роли из невидимых глазу нитей собственных страстей, эмоций, чувств. Они перестают ощущать грань между личностью и личиной, актером и ролью. Они – энергозатратны, они удручающе несовременны, они бесконечно милы и трогательны «уходящей натурой» своей методы. К великому счастью, природа наделила Равиля Шигаповича талантом иного свойства и вооружила творческим методом универсального характера.
У него очень своеобразная актерская фактура – высокий, худой, с угловатой пластикой… Стать с такой внешностью «первым сюжетом» сомнительно, а комиком – в самый раз. Шарафиев год за годом, роль за ролью преодолевает свою фактуру. Либо нещадно ее эксплуатирует, когда это продиктовано материалом…
Если бы во время оно театр не прошел мимо драматургии Шекспира, Пиранделло, Ануя, Брехта, татарской драматургии метафорического направления, судьба актера сложилась бы иначе. Но и шекспировские, и брехтовские нотки проникали в традиционный для татарской сцены материал. Эпичность, социальный и психологический гротеск, элементы интеллектуального театра вносил своей игрой Шарафиев. Раньше многих других актеров он догадался, или интуитивно почувствовал, что литературный и сценический текст не одно и то же, что в партитуре роли важны не только слова, но и интонации, а пластическая выразительность персонажа может быть содержательнее литературной заданности. Но главное, что способ существования и тип взаимодействия актера с ролью могут изменить тональность всего спектакля.
Сегодня это самоочевидно, а
Но довольно о грустном! Времена изменились. И пусть читатель рискнет сам догадаться, отчего на восьмом десятке Равиль Шарафиев продолжает оставаться одним из самых востребованных актеров…
Помимо бесспорных актерских достижений, Шарафиев не устает удивлять широтой своей эрудиции. Вот вам из недавнего. В последний раз худсовет театра собирался по поводу выпуска спектакля «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Йона Фоссе. Затишье перед бурей. Прежде чем начать разговор о самой необычной премьере последних лет, мы сидели и мило болтали о пустяках. Вдруг Равиль Шигапович с места начал читать сначала тихо, словно примеряясь к аудитории, затем, убедившись, что полностью захватил наше внимание, все четче и громче стихотворение «У фьорда» норвежца Нурдаля Грига. Это было неожиданно, уместно и атмосферно. Это было классно! Не то чтобы я был горячим поклонником норвежского поэта-антифашиста, но прочувствованный актером, исполненный экспромтом стих воочию дал понять – Шарафиев живет этим, поэзией, доступной далеко не всем, стихами, известными единицам… Был ли это своего рода шифр, послание, месседж? Или просто бравада? Какая разница, в сущности… Это был Шарафиев! Единственный и неповторимый.
Равиль Шарафиев – мастер парадокса на сцене и в жизни. В его хлестких и лаконичных, добрых и издевательских характеристиках людей, событий – опыт прожитой жизни, горы прочитанных книг, мириады передуманных мыслей, парадоксальная мудрость паяца. Это, если вспомнить Шекспира, «горький шут» – безжалостный ко лжи и лицемерию, пафосу и фальши. Сравнение не случайно, ведь и сам Равиль-абый часто рассуждает о природе шутовского юмора, о праве правды на смех и язвительность. Ему такое сравнение точно придется по душе, а другие – смиритесь!