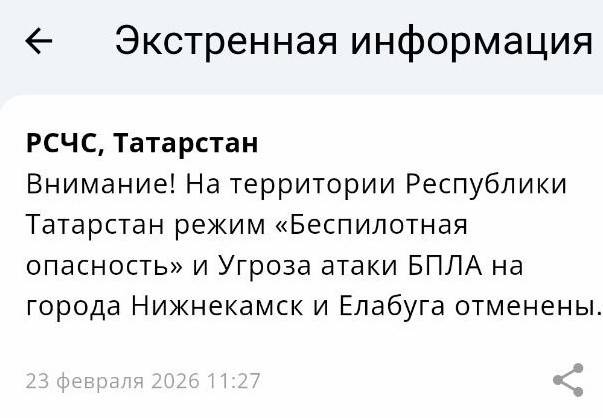Документальное повествование
Памяти мамы
Она и по малолетству знала, что её деревня Булгаер – это земля булгар. А что тут не знать-то? На щитке у околицы так и написано: «Булгар ере».
Сейчас Гульсине целых восемь лет, и у неё серьёзная миссия. Шагает она к отцу. Прямо в Казанский кремль.
Она помнит до слова, что ани ей наказала. Да и сама знает, что отцу сказать. Многое она повидала на своём детском веку, коротком, как стелька в её латаных сандалетках.
Она шла в Казань с тётенькой Гульзадой. Сельской учительницей, отправившейся повидать родственников и договориться о работе в городской школе.
По каменистому от засухи просёлку меж ржаных, пшеничных и овсяных полей шагали в сторону Волги. Дух большой реки ощущался даже здесь – в пятидесяти километрах от сверкающей влаги, передавался через простор, через ощущение воли. Вьются над головой жаворонки, подают голоса суслики, стрекочут кузнечики, улыбаются кучевые облака.
И только человеку не хватает умиротворения! Один притесняет другого, придумывает новые законы, заставляет подчиняться, а кто против – в того стреляют из винтовки. Кто позволил чужакам являться в родовое село, отнимать хлеб и скот? Люди всё это вырастили через великий труд, чтобы кормить семью, выжить в лютую зиму, когда со двора за припасами уже не выйти в лес или поле. Там загрызут волки, они тоже хотят есть, их развелось в эти лютые годы много. Заходят из северных лесов даже медведи, дерутся с кабанами. Человеку выходить без ружья в одиночку рискованно.
Подобно стае неторопливых волков, уверенных в собственной силе, приходят из-за холма двуногие хищники в обмотках. Головы этих людей в будёновках видно издали. Макушки островерхих шапок мреют в знойной пыли средь жнивья, ныряя вверх-вниз, как поплавки на реке, издали наводя ужас. Как ни молись, пока ты в этом отрезке времени свободен, они будут приближаться с каждой секундой, увеличиваясь в росте, – и всё равно будут здесь!
Отца Гульсины Ислама красноармейцы избили при «сопротивлении властям», когда конфисковывали пшеницу. Связали и бросили в телегу. Сломали прикладом винтовки грудину его жене Дарьял-апе.
Отца увезли в тюрьму, в Казань. А Дарьял-апа два месяца лежала без движения. Не могла полноценно вздохнуть, не могла кашлять.
Родную её сестру, Санию-апу, обобрали дочиста, записав семью особо зажиточными кулаками. За то, что у них в доме были пуховые матрасы, подушки, а на дворе – тарантас, лобогрейка и две коровы. Всё, что годами наживала физически крепкая и быстрая на подъём семья. Батраков у них никогда не было. Всё делали своими руками. Трудились от мала до велика, начиная с пяти лет. Их, как особо опасных кулаков, депортировали в Иркутскую область, в поселение Черемхово.
Гульсина семенит, босая, по тому же просёлку. Сандалетки, чинённые дратвой, она бережет – до Казани сто километров. И если обутку не беречь, то дратва изотрётся, сыромятина развалится, и ходи потом у кремля голоногая, кто ж тебя уважать будет?
Тётя Гульзада шагает чуть впереди, тоже босая, обувь держит в руке. За спиной у ней вещмешок. Наверное, военный, шитый в мануфактуре. А у Гульсины мешок самодельный, из старой холщовой юбки, небольшой. В нём – провизия: две варёные репы, две свёклы и краюха хлеба. Дутый пузырёк с водицей. Денюжка в кожаном мешочке, он висит на груди под платьем.
Волки могут напасть и здесь, в поле. Но Гульсина их не боится. Слышала рассказ сельчанки и намотала на ум, что зверя надо хватать за язык, когда пасть разинет. Держать крепко и вести на село, а там выйдут соседи с вилами.
Ещё Гульсина никогда не утонет в речке. Узнала об этом тоже прошлым летом. Когда её с крутого склизкого склона потянула на глубину подруга Руфия. Они съехали по грязи и сразу попали в яму. Начали тонуть, цепляясь друг за друга. Руфия-то плавать умела. Ныряла, как рыбка. Решила и Гульсину одарить этим счастьем. Мол, чего боишься! Спасла их Минигель-апа, что стирала на мостке бельё. Выдернула из воды Гульсину, наотмашь треснула по затылку Руфию. Гульсина на всю жизнь запомнила крепкие спасающие руки женщины, скользкую её шею. И ужас свой тоже – на всю жизнь.
Они шли уже часов пять. Сухая почва отдавала в пятки, и от ударов о твердь они болели. Часов у них не было. Ориентировались по солнцу. И во времени, и в направлении маршрута. Солнце после обеда должно печь затылок. Сколько вёрст они прошли? Шли на Карманово. Но где оно? Вдали, в распадках, меж засеянных полей, иногда мелькали крыши селений. Где-то виднелась церковная макушка, с поверженным набок крестом. Будто дали тумака – и скособочилась, антисоветская.
А вообще, путь держали на тракт. Он где-то левее. У деревни Бурундуки. А там уж безошибочно можно шагать до Верхнего Услона. Там переправа. Оттуда и город виден, и сам кремль.
Отдыхать решено, как стемнеет. Где-нибудь на опушке. Там и подкрепиться можно. Воду из пузырьков экономили. Только полоскали ссохшийся рот. Долго ли ещё до родника – только Аллаху известно.
Летние сумерки появляться не спешили, робко прятали в низовых логах смуглое лицо. Ещё над головой, меж солнечных игл, резво вились жаворонки. Неслись впереди над просёлком. Будто указывали путь добрым людям.
Вот и пропало зарево впереди под холмом – красный отсвет заходящего солнца на поверхности далёкого озера вдруг погас. На землю упала грусть. Озеро исчезло. Только видны были макушки елей и окраины тёмных опушек на границе желтеющих нив.
Уже в сумерках добрались до озера. Сели на кочку, вытянули к воде натруженные ноги – благодать! И тишина. Чувствуется, как мать-земля переворачивает по оси свой бок в сторону ночи – приподнимает путников, их усталые тела. Приближает к едва просвечивающим звёздам.
Еще издали заметили на опушке перламутровые шляпки сыроежек. Вот и ужин. Пошли набирать, а там белые грибы! Целые россыпи! Вера запрещает? Но голод не тётка, и нет на грибах поповьей слюны. Они чистые, девственные, из родной земли растут.
Набрали по подолу. Ходили по опушке, как бесстыжие, светя в сумерках белыми штанцами. И старшая, и младшая. Насобирали замшевой вкуснятины впрок. Брали лишь молодые, ядрёные. Разожгли из сухой прибрежной травы костерок. Задыхаясь в жёлтом дыму, чертополох вдруг улыбнулся весёлым пламенем, высунул к небу, хохоча, язычок. Накидали в огонь ещё ивняка и сухих водорослей. И когда пламя утихомирилось, стали нанизывать на ивняк грибы. Сидели на корточках, держа над костром прутики.
Когда грибы прожарились, посолили. Вынув из мешка хлеб, поели, комками толкали в пищевод блаженную сытость. Тут и сном разморило. Отошли на бугор, за день прогретый солнцем. И не успели ладонь приложить к щеке, как по волшебству, уснули.
Они шли ещё день и остановились в большой деревне. Кажется, это те самые Бурундуки, где Гульзада должна передать письмо от своей соседки. Письмо жене местного председателя сельсовета, инвалида Гражданской войны, обрусевшего украинца Коваленко, женившегося на красавице-татарке из села Булгаер. Семья председателя жила в достатке, в закромах имелось всё, но детей Бог не дал.
историческая справкаВ декабре 1927 года на XV съезде ВКП(б) была принята резолюция «О работе в деревне». Предполагалось, что к 1933 году в колхозы будут объединены 25 процентов всех крестьянских хозяйств. Но на самом деле коллективизация получилась сплошной, и она проводилась насильственно.«По Арскому кантону в Калининской волости раскулачено 20 хозяйств середняков, Ново-Кишитской – 25. Н. Челнинский кантон Афанасьевской волости село Пробуждение. Раскулачен середняк Зотин за то, что у отца была шерстобойня, активный участник Октябрьской революции, как моряк Балтфлота весь период Гражданской войны был на фронте, белые отобрали дом и имущество. В дер. Тягузино раскулачен середняк Мутяшин за покупку с сестрой перины в голодный год, имеет одну лошадь, одну корову, служил в Красной Армии, 2 раза ранен, брат убит в бою с белыми. В Исанбаевской волости Челнинского кантона раскулачен середняк за выступление против хлебозаготовок, а по Акташской волости за «тенденцию к окулачиванию». (Из «Сводки о ходе раскулачивания по Татарской АССР от 15 марта 1930 г.»)В деревне Ново-Чуклы Буинского кантона жители выступили в защиту раскулаченных и местного муллы. Отчёт об этом событии содержится в том же документе. «Деревня Ново-Чуклы Городищенской волости Буинского кантона. Мулла и кулаки организовали сопротивление аресту 3-х кулаков и муллы Галлямова. 13/1 толпа в 700 – 800 чел. напала на милиционеров, производивших арест, принудила их выпустить арестованных и с криками «ура» на руках несла муллу до дома, чтобы застраховать себя от новых попыток ареста, выставила караулы и дозоры, на следующий день в соседнем селе Чуклы, обсуждая события, готовилась к отпору нового отряда, при этом были попытки переизбрать сельсовет и провести своих представителей». |
В Бурундуках много родников, начиная от самой околицы. Если идти по руслу оврага, всюду ещё с царских времен сохранившиеся из бутового камня и дубовых досок насты-подходы к источникам.
Возле овражка напились вдоволь, умыли, освежили лица. Набрали воды в бутылки.
Сельчане указали им на кирпичный, крытый железом дом председателя сельсовета. Вошли в пахнущий навозом двор, выстланный толстыми осиновыми досками. На крыльце их встретила высокая хозяйка в кружевном переднике. На голове жёлтый узорчатый платок, повязанный вкруг головы от затылка ко лбу – рожками. Как у Солохи. Даром, что ли, хозяин украинец! Однако, помня, что женщина родом из Булгаер, обе путницы поверили – татарка.
Да и хозяйка заговорила на родном языке.
Первое, что она молвила, глядя на Гульсину:
– Ах, какая красавица!..
Пока ставился самовар, путницам показали место в прохладной клети, где хранились хомуты, бочки, мешки с зерном. Пусть сперва отдохнут.
Хотели было уснуть, расположившись на широких половицах, изъеденных жучками-древоточцами. Да не спится! Червячок в желудке шевелится, толкается, что тебе голодный котёнок бодается лбом: дай поесть. Но запас в заплечных мешках не трогали. Впереди ещё долгий путь. А тут скоро уж наверняка накормят. Надо потерпеть.
Отворилась низкая наборная дверь, сбитая без единого гвоздя, жёлтый дневной свет лёг на пол – приглашали в дом.
На столе в горнице на чистой скатерти – бронзовый самовар отражал высокую грудь хозяйки, сидящей подле. В тарелках лежала горкой густая гороховая каша. Торчали из стакана ложки. На скатерти – бублики и ватрушки. И даже мёд в миске.
Хозяйка удивительно гостеприимная. Из письма сестры она уже знала о цели их путешествия в Казань.
Гульсина сидела высоко на стуле, свесив босые ножки. Обеими руками держа пиалу, тянула чай. Неотрывно и с таким упоением, будто это был не чай, а тягучая патока. И каждый раз, прежде чем потянуться ложкой к мёду, взглядывала на хозяйку.
– Аша, аша, – кивала та одобрительно, – ешь, матурым.
Крупная, ладная, и столько у ней добра! А вот детей не видать. Не плачут, не канючат и не носятся по комнатам.
Гульсина соскочила со стула и стала рассматривать на комоде вычурную шкатулку в виде терема. Сшитую из открыток под слюдой нитками мулине.
– Твоя дочь? – спросила хозяйка, обратившись к Гульзаде.
– Нет, соседская.
– Продай девочку.
Гульзада чуть не подавилась. Думала, шутит. Но это было сказано с таким выражением, что сомнений не оставалось: просьба серьёзная.
– Да вы что!? – пролепетала учительница. – У ней мама есть!
– Не обижу. Хоть тебя, хоть мать. А? Или можешь всё себе взять. Скажешь, девочка пропала. На переправе потерялась.
– Зачем вам? – страдальчески глянула Гульзада.
– Надо.
– В батрачки?
– Нет. Как дочь.
– Ну, она же к отцу идёт.
– К отцу? Зачем?
– Их обобрали. Отца посадили. Дарьял-апа отправила девочку со мной. К нему. За советом – как быть.
На лице хозяйки выразилось недоумение.
– А что, написать нельзя? – вскинула бровь.
Гульзада склонила голову. Тихо произнесла:
– Нельзя.
Айдар САХИБЗАДИНОВ
(Окончание следует)
Не пропустите самое интересное в Telegram-канале газеты «Республика Татарстан»
Больше статей и новостей в «Дзен»