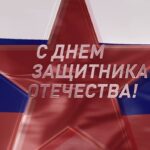Ушел в историю очередной, 62-й День Победы, но не улеглись еще в душе чувства, которые каждый раз неизменно возникают в связи с этим священным и дорогим сердцу праздником. Все в день 9 мая волнительно, торжественно и значимо, но самыми волнующими в нашей семье, как впрочем, наверное, и для всех, являются мгновения всенародной Минуты молчания, объявляемой под мерный стук метронома по всероссийскому телевидению и радио. Каждый раз в такую минуту мы по примеру мамы встаем и замолкаем в знак скорби по ушедшим из жизни участникам Великой Отечественной… И каждый раз на глазах мамы слезы, которые она и не пытается скрывать.
 -То святые слезы, – говорит мама в ответ на наши успокоительные слова. – От деда передались и в память о нем самом… Когда я была ребенком, то не понимала еще, почему он в такие минуты вставал и, чутко вслушиваясь в торжественно-скорбные слова диктора, молча плакал. С годами и я постигла всю глубину слез в дедовских глазах и теперь вот сама не могу удержаться от них…
-То святые слезы, – говорит мама в ответ на наши успокоительные слова. – От деда передались и в память о нем самом… Когда я была ребенком, то не понимала еще, почему он в такие минуты вставал и, чутко вслушиваясь в торжественно-скорбные слова диктора, молча плакал. С годами и я постигла всю глубину слез в дедовских глазах и теперь вот сама не могу удержаться от них…
Да, дедушки мамы, моего прадеда, уже нет с нами. Но он незримо остается среди нас, оживая с новой силой в наших воспоминаниях, когда мы раскрываем семейный фотоальбом, и они, прадед и прабабушка, смотрят с пожелтевших фотографий молодые, сильные и красивые.
Прадед, Михаил, родился в 1915 году в семье шахтеров. Его родители переехали в поисках лучшей доли из деревни Надеждино нынешнего Кайбицкого района Татарстана в Донбасс. Неплохо зарабатывали, но грянула реформа, и деньгами, которые превратились в пустые бумажки, осталось только оклеить изнутри сундук – на память о несбывшейся мечте. Вскоре, заболев, умер отец, и пришлось Марии Григорьевне, матери Миши и сестренки его Анны, возвращаться в Надеждино. Тут было не легче, и мать в надежде спасти сына отдала его в детский дом.
И действительно, не пропал мальчишка. Рос любознательным, тянулся к технике. Заметили в Михаиле эту тягу, отправили в Свияжскую профтехшколу, где он обучился на слесаря по ремонту машин. Стал работать юноша в Юдино помощником машиниста паровоза, помогал деньгами сестренке с матерью.
В 1933 году Михаил Бурлаков стал делегатом Всетатарского съезда ударников труда. Молодежь ударно трудилась и интересно, с выдумкой отдыхала, устраивая вечеринки, спектакли художественной самодеятельности. В одном из спектаклей Миша играл жениха, а Маша, задорная девушка, – его невесту. И в жизни получилось, что полюбили они друг друга и создали семью. Все у них было складно да ладно, но грянула война.
Михаил Германович ушел на фронт, а Мария Матвеевна с двумя дочерьми и сынишкой осталась в Йошкар-Оле, трудилась наравне со всеми для фронта. Конечно же, трудно, временами очень трудно приходилось, но силу духа поддерживали весточки от Миши – скромные треугольники-письма со словами горячей любви. Это взаимное чувство и помогло им преодолеть все преграды-испытания и дождаться счастья встречи. Правда, Михаил Германович вернулся не сразу после победного мая 1945-го, он еще участвовал в боях с японскими милитаристами. Так и получилось, что ушел на войну еще с белофиннами в 1939-м, а вернулся осенью сорок пятого. Свидетельством тому, что сражался бесстрашно, были боевые награды – орден Отечественной войны II степени, два – Красной Звезды, нагрудный знак гвардии, медали “За оборону Киева”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Японией”…
После войны Михаил Бурлаков, окончив Васильевский автомеханический техникум, работал увлеченно, с огоньком. Многим помог он не только добрым словом, но и делом: кого научил автомобиль водить, кому помог квартиру получить, кому – трудоустроиться…
Сегодня трудовую эстафету Михаила Бурлакова продолжают две его внучки, одна из которых – моя мама, а дальше нести ее предстоит нам, его правнукам. Нести достойно, не роняя чести прадеда-фронтовика.
Елена ЯРУЛЛИНА.