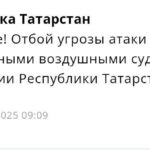Хабир Ибрагим (литературный псевдоним Ахир) – типичный татарский литератор. Ему свойственны всеохватность и плодовитость: он пишет стихи и прозу, сочиняет тексты песен, комедии, мелодрамы и киносценарии.
К пятидесяти годам по его произведениям поставлено около двадцати спектаклей в театрах Татарстана и России, снято четыре полнометражных художественных телефильма.
Он автор трех книг, лауреат конкурсов “Татарская пьеса” (1998) и “Новая татарская пьеса” (2006). Главное, что выделяет Хабира Ибрагима среди собратьев по перу, – пристрастие к вымирающему жанру социальной сатиры.
– В одной из твоих характеристик сказано: “…имеет активную жизненную позицию, в своих многочисленных печатных публикациях смело высказывается о самых насущных проблемах нашей действительности и вместе со всей общественностью ищет пути решения проблемных вопросов”. Расскажи, какие пороки ты бичуешь в своих произведениях?
– Больше всего я не люблю обманщиков, пропащих алкоголиков и упертых фанатиков. С другой стороны, я не Салтыков-Щедрин и не могу сказать, что в сатирических повестях “Мухтар и Туктар”, “Халявщик” бичевал эти пороки. Я по-своему люблю своих героев и жалею их, ведь прототипы многих из них мои односельчане, коллеги по работе.
– Как ты, родившийся в благополучной семье председателя колхоза, выработал в себе страсть к социальной сатире? Небось в детстве как сыр в масле катался?
– С точностью до наоборот. Ко мне, самому младшему – чет-вертому – ребенку в семье, отец был особенно строг. Он считал меня бездельником. Старший брат был отцу помощником во всех делах: запрягал лошадь, чинил забор, а я часами мог сидеть и фантазировать. Однажды в стоге сена замечтался до того, что не заметил, как приятели бросили в костер мою старую потертую шубу. За нее мне досталось от родителя как за испорченную обновку.
Когда в 1976 году поступил в институт культуры на факультет культурно-просветительской работы, поневоле хорошо учился. Троечников лишали стипендии, а это для меня означало голодную смерть. Отец мог завалить меня картошкой, мясом и овощами, но предпочитал, чтобы я наравне со всеми жил от стипендии до стипендии в общаге, питался комплексным обедом за 40 копеек в столовой, носил старомодный кримпленовый костюм и дешевое драповое зеленое пальто, в котором походил на крокодила или ходячее одеяло. Добавь к этому образу длинные, до плеч, волосы по моде тех лет…
– Ты от природы обладал веселым нравом и ироническим взглядом на действительность?
– Опять с точностью до наоборот – в юности я был меланхоликом и романтиком. Когда после окончания института вернулся по распределению в родной Апастовский район, стал не только методистом, но и… диссидентом. Хотел совершить переворот в культуре, чтобы район гремел на всю республику. Демонстративно отказался от премии под тем предлогом, что ничего не делал, только бумажки составлял. Юный дурак был, а другой человек спокойно положил мои деньги себе в карман и обвинил меня в том, что я выступаю против политики партии.
В своем нигилизме я дошел до того, что проигнорировал выборы районного судьи. Беспрецедентная наглость по тем временам, когда явка должна была быть стопроцентной. Я сидел преспокойно дома и играл с другом в шахматы, а в восемь вечера ко мне явились члены избирательной комиссии с огромной деревянной урной. Райкомовский шофер Ансар, выглянув из-за красной бандуры, сказал с укоризной: “Ты один остался в районе непроголосовавший”. В тот момент мне как раз грозил мат. Одной рукой я держал шахматную фигуру, а другой не глядя положил в урну лист для голосования. Потом люди говорили, что, узнав о моих художествах, первый секретарь райкома якобы вознамерился “выселить” меня за пределы района.
Правда, потом руководство сменило гнев на милость, и меня направили учителем физкультуры в Булгоярскую школу, расположенную в трех километрах от моей родной деревни Бурнашево. Встретили меня кисло и определили вести группу продленного дня – атас для мужчины. Какое-то время я водил детей в столовую, помогал делать домашние задания, а потом впал в депрес-сию. Полгода не работал, чуть не сошел с ума и хотел застрелиться.
В 2002 году по моему кино-сценарию был снят художественный фильм “Одинокий чибис”. В нем рассказывается о татарской деревне 50-60 годов прошлого века, когда крестьяне находились на положении крепостных, не имея паспортов. Главный герой этого фильма Рамазан кончает жизнь самоубийством. В этот образ я вложил опыт душевной дисгармонии, пережитой в молодые годы.
– Так где же тебя все-таки благословил бог веселья и озорства Локи, уж не в деревне ли Альмендерово, от названия которой получил имя бессмертный старик Альмандар из знаменитой пьесы Туфана Миннуллина?
– Похоже на то. Когда в 1985 году меня назначили на должность заведующего Домом культуры в Альмендерово (это был пик моей карьеры в провинции), в первый же день альмендеровцы оказали мне “теплый” прием – избили. “За что?”- спросил я, отряхивая грязь. Ответ был исчерпывающим: “А за то, что ты завклубом”. Разумеется, я мог бы собрать друзей и достойно ответить обидчикам, но, как человек, увлекающийся шахматами, решил действовать хитроумно.
Тогда в моду входили дискотеки, и я убедил председателя выделить под эту затею три тысячи рублей (огромные деньги по тем временам), съездил в Ка-
зань, закупил аппаратуру, и через несколько дней над входом в Дом культуры красовалась вывеска “Дискоклуб “Робот-М”. Почему “М”, я и сам не знал. После этого моя популярность среди сельчан выросла.
Освоившись в новой роли диск-жокея, я расширил поле деятельности, и вскоре стенды домов культуры близлежащих районов пестрели афишками “Гастроли дискоклуба “Робот-М”. Деньги в карман потекли если не рекой, то уверенным ручейком. Однако все закончилось печально. Как-то раз в деревне Барышево я, как обычно, вышел на сцену и произнес коронную фразу: “Танцуют все!”. Но музыка не заиграла. Аппаратура, раздолбанная во время переездов в кузове грузовика, вышла из строя. “Деньги назад!”- угрожающе зашумела толпа. Но денег у меня уже не было, я конвертировал их в застолье, организованное за кулисами. Завязалась драка. Исход ее мог бы быть плачевным, если бы я не догадался произнести волшебные слова: “Ребята, есть водка”. “Так бы сразу и сказал”, – мигом разжали кулаки барышевские джигиты.
Череда подобных происшествий привела меня к выводу о том, что жизнь абсурдна в своей основе и если относиться ко всему серьезно, то с ума можно сойти.
– То есть ты созрел для того, чтобы писать?
– Возможно. Внешним толчком послужило проведение в 1986 году Фестиваля народных театров. Мне пришлось задуматься: что поставить? Выбрал “Весенние мелодии” Ахата Гаффара. О нормальных декорациях мечтать не приходилось, притащил обугленные бревна, повесил на них гармошку и красную ленту – создал образ трагических военных лет. Текст пьесы оказал-ся мудреным, с очень длинными монологами. Деревенские парни, сорвиголовы, вряд ли стали бы их заучивать наизусть. Я взял да и перевел текст на свой драматический язык, реплики сделал короткими, запоминаемыми. Когда член жюри Фарид Хабибуллин, бывший главный режиссер Татарского тюза, увидел наше выступление на сцене районного клуба в Апастово, пришел в восторг: “Я хотел бы с этим коллективом работать!”
Вдохновленный вручением диплома “За оригинальное режиссерское решение спектакля”, я начал сам писать сценарии и пьесы. Одновременно проснулась способность сочинять стихи. Правда, до 30 лет я не мог напечатать ни одного стихотворения. Меня заметил и помог впервые опубликоваться Ркаил Зайдулла.
– Драматург Мансур Гилязов утверждает, что биографии всех татарских писателей похожи, умещаются на двух страницах: приехал в Казань, жил в общежитии, женился, родился ребенок, получил однокомнат-ную квартиру, родился второй ребенок, получил трехкомнат-ную квартиру. Твоя жизнь складывалась по такой же схеме?
– Никаких схем, события моей жизни разворачивались непредсказуемо. Например, в 1989 году я чуть было не стал певцом. Тогда режиссер Эдмас Утяганов снимал на казанском телевидении детский мюзикл по сказке Наки Исанбета “Мырау батыр”. Мне и мало кому тогда известному Габдельфату Сафину достались роли слуг – сутулого и стройного. На Рашида Абдуллина – композитора, сочинившего музыку к мюзиклу, – большое впечатление произвели именно мои вокальные данные. “Тренируй голос, – сказал он, – из тебя получится замечательный певец”. А Габдельфата Сафина, наоборот, он забраковал, сказав, что голос у него какой-то старческий. А потом все произошло, как у Горького с Шаляпиным, с оценкой музыкального дарования которых тоже ошиблись. Габдельфат стал звездой татарской эстрады, а я стал подвизаться на ниве литературы и журналистики: готовил передачи “В пятницу вечером” и “Браво” на местном телевидении, затем устроился редактором в Татарское книжное издательство, а позже – литературным консультантом в Союзе писателей РТ.
– Ты, конечно, знаком с романом “Мастер и Маргарита”, следовательно, и с закономерностью, которая там выведена: где союз писателей, там булгаковщина, чертовщина. Не хотел бы о собратьях по перу написать сатирическое произведение?
– Такое произведение мною уже написано, это рассказ “Молодой поэт”. “Молодой” в ироническом смысле, на самом деле главному герою под семьдесят, он живет в отдаленной деревне и считает свое рифмоплетство поэзией (довольно распространенный типаж). Бабай настолько замучил односельчан своими виршами, что те выдвинули ему жесткое требование: “Докажи нам, что ты поэт, – покажи удостоверение”. Графоману пришлось отправляться в Казань и искать там Союз писателей. Стоило ему переступить порог старинного особняка, как начались приключения. Один мэтр начал убеждать бабая в том, что настоящий поэт обязательно дол-жен посидеть в тюрьме (“Исха-
ки сидел, Джалиль сидел”). Другой пытался раскрутить гостя на дармовую выпивку. В итоге сбитый с толку дед отправился в ОСВОД, готовый довольствоваться членским билетом хоть какого-нибудь общества.
В “Молодом поэте” я поставил под сомнение целесообразность творческого союза по образцу чиновничьего аппарата, с другой стороны, высмеял претенциозную бездарность, безосновательную амбициозность, которые еще нередко встречаются.
– Чем ты намерен порадовать читателей и зрителей в обозримом будущем?
– В свежем номере журнала “Идель”, где я в данное время работаю редактором, вышел мой сатирический роман “13 стульев”. Как явствует из названия, это роман-пародия на знаменитое произведение Ильфа и Петрова “12 стульев”. События моего романа охватывают десятилетие “нового НЭПа”. Главный герой Расих Шамский живет и действует в Татарстане, сотрудничает с рекламной газетой “Баш на баш”. Однажды в редакцию из района приходит письмо, в котором говорится о тринадцати стульях, когда-то стоявших в райкоме партии, в одном из них якобы спрятаны партийные деньги. Шамский отправляется на поиски стула, к нему присоединяется Форматов (аналог Кисы Воробьянинова).
Также мною написаны новые киносценарии “Казанские тайны” и “Ребенок, бегущий по ржаному полю”, они находятся на стадии подготовки к съемкам.
На лаврах я не почиваю, считаю себя реализованным лишь на 50 процентов, я мог бы писать лучше и больше.
Галина ЗАЙНУЛЛИНА.