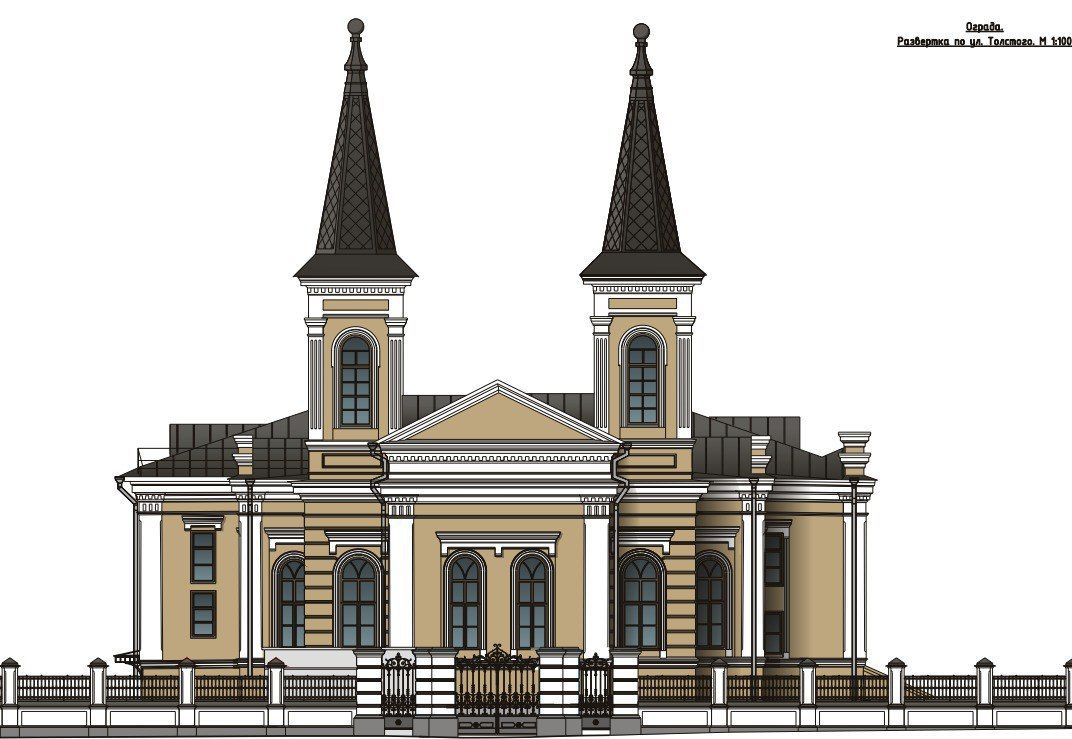«Бал». Иллюстрация В.Гильберта к рассказу Льва Толстого «После бала».
«Бал». Иллюстрация В.Гильберта к рассказу Льва Толстого «После бала».
Исполнилось 105 лет со времени выхода в свет рассказа Льва Толстого «После бала», в основу которого легли казанские «впечатленья бытия».
В ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ПОГРОМОВ
Истории появления сочинений Льва Толстого порой не менее интересны, чем сами произведения.
В Казани, на плацу Арского поля, в сороковые годы XIX столетия произошел случай, который стал сюжетом художественного произведения благодаря еврейскому писателю Шолом-Алейхему. В 1903 году он обратился к 75-летнему Толстому с просьбой написать что-нибудь для сборника в помощь евреям, пострадавшим от кишиневских погромов. Яснополянский гуманист, утверждавший идеалы любви и добра, испытывающий ужас и отвращение «перед всякого рода насилием» с детских лет, «когда французский учитель запер меня за какой-то мелкий проступок и грозил высечь», дал согласие на участие в акции.
Через пять месяцев рассказ был готов. По неизвестным причинам в сборник Шолом-Алейхема он не вошел и появился в посмертных произведениях Толстого лишь в 1911 году.
ВСЕ ПЕРСОНАЖИ – РЕАЛЬНЫЕ
Казанские мотивы в творчестве автора «Войны и мира» не редки. Они встречаются в дневниках, письмах, воспоминаниях, художественных произведениях. Но и в этом ряду к сочинению графа Толстого «После бала» в Казани интерес особый.
Несмотря на внимание исследователей, рассказ все еще таит немало белых пятен. В нем узнаваемы улицы, до сих пор сохранились дома, где проживала семья, а немногочисленные герои повествования – реальные люди, даже знакомые братьев Толстых.
Начальник гарнизонного батальона, полковник Андрей Петрович Корейша, выведенный в рассказе под именем Петра Владиславовича, жизненная позиция которого «надо все по закону», «главное не рассуждать», – типичный «оборотень в серебряных эполетах», служака николаевской выправки. Он и внешне, с подвитыми усами и бакенбардами, похож на своего идола, императора Николая I. Ревностный исполнитель его принципов: «Трех забить, одного выучить», Корейша ведал в то время в Казани зверскими истязаниями и усердно исполнял их.
В Казани, на плацу Арского поля, в сороковые годы XIX столетия произошел случай, который стал сюжетом художественного произведения благодаря еврейскому писателю Шолом-Алейхему. В 1903 году он обратился к 75-летнему Толстому с просьбой написать что-нибудь для сборника в помощь евреям, пострадавшим от кишиневских погромов
Варенька Б. (Толстой в произведении даже не изменил ее имени) – это Варвара Корейша, в которую был влюблен в молодости студент провинциального университета, являлась дочерью Андрея Петровича. «Они не принадлежали к родовитым и богатым семействам, но их везде приглашали по положению отца и за признаваемую всеми прелесть дочери».
Иван Васильевич, от чьего имени ведется рассказ, в молодости «веселый, бойкий, да еще и богатый малый», – это старший брат Льва Сергей. «Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями, кутил с товарищами. Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы»,– говорит он о себе.
И ВСЕ-ТАКИ СЕРГЕЙ…
Семейная молва приписывала происшествие на Арском плацу Сергею Николаевичу, жившему тогда в Казани. Однако среди краеведов до сих пор бытует мнение, что за основу рассказа взят эпизод, пережитый не Сергеем, а Львом. Да и Иван Васильевич, от лица которого ведется повествование, – сам писатель.
Дыма без огня не бывает. Некоторую сумятицу в литературный «спор» автор рассказа все-таки внес. В дневнике от 9 августа 1903 года (к тому времени относится завершение сочинения) Лев Николаевич сделал запись: «Веселый бал в Казани, влюблен в Корейшу-красавицу, дочь воинского начальника-поляка, танцую с нею; ее красавец старик-отец ласково берет ее и идет мазурку. И на утро после влюбленной бессонной ночи звуки барабана, и сквозь строй гонят татарина, и воинский начальник велит больнее бить».
В мучительных поисках истины, размышлениях Ивана Васильевича: «кто виноват в торжестве зла, общественная среда или сам человек? Можно ли самому понять, что хорошо, а что дурно, что нравственно, а что безнравственно?» – угадываются переживания самого автора, а в описании влюбленности рассказчика, без сомнения, лежит романтическое чувство, испытанное Львом Толстым в мае 1851 года, когда с братом Николаем они ехали через Казань на Кавказ «усмирять горцев».
| В дневнике от 9 августа 1903 года Лев Николаевич сделал запись: | |
| «Веселый бал в Казани, влюблен в Корейшу-красавицу, дочь воинского начальника-поляка, танцую с нею; ее красавец старик-отец ласково берет ее и идет мазурку. И на утро после влюбленной бессонной ночи звуки барабана, и сквозь строй гонят татарина, и воинский начальник велит больнее бить». | |
Так, «высокая, стройная, грациозная, величественная» Варенька напоминает его казанскую музу, Зинаиду Молоствову. В любви к ней молодой граф так и не признается. Запись в дневнике появится лишь через месяц после отъезда в Старом Юрте на Кавказе.
О том, что сам Лев Николаевич на Арском плацу в то утро не был и казни не видел, свидетельствуют воспоминания друга и последователя Хрисанфа Николаевича Абрикосова, врачей Маковицкого и Захарьина-Якунина.
Окончательный спор в пользу Сергея решает содержание рассказа, где Иван Васильевич говорит о себе: «Танцевал я хорошо и был не безобразен». «Ну, нечего скромничать, – перебила одна из собеседниц.– Мы ведь знаем ваш дагеротипный портрет. Вы были просто красавец».
Молодого Толстого красавцем не назовешь. Казанский краевед Николай Павлович Загоскин, исследователь студенческих лет графа Толстого, подчеркивал, что в молодости Лев был некрасив, широкоплеч, с короткими щетинистыми волосами. Приятели иначе как «бирюк» его не называли. На балах, по воспоминаниям современников, он держался скованно, танцевал неохотно, и начальница Родионовского института благородных девиц Екатерина Дмитриевна Загоскина за стеснительность и неуклюжесть выговаривала по-французски, что он напоминает «куль с мукой».
Никто не знал, что таким поведением Лев защищается, считая себя некрасивым. Зато юноша много наблюдает, и мало кому из русских писателей так «тонко, благоуханно, ярко» удалось описать атмосферу балов, как Толстому.
ОБНИМАЛ ВЕСЬ МИР СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ
В рассказе Толстой сосредоточил внимание не на великолепии бала в доме богача-хлебосола, губернского предводителя, а на сценах танцующей в паре с отцом дочери, наказании бежавшего из казармы солдата, состоянии нашего героя. Большой охотник до шампанского, которого в буфете было «море разливанное», опьяненный любовью, он видел перед собой лишь «высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза» Вареньки. С ней, насколько это было возможно, он танцевал весь вечер. И даже когда они «делали фигуры мазурки вальсом и вальсировали подолгу», от счастья он не чувствовал ни усталости, ни своего тела.
Финалом вечера стал танец отца и дочери. За ним следил весь зал: столько любви, нежности, тепла было в этом удивительном зрелище. Завершив танец, полковник упал перед дочерью на одно колено, а затем, «приподнявшись, нежно, мило обхватил ее руками за уши и поцеловал в лоб», – пишет Толстой в рассказе.
Дома молодой человек понимает, что уснуть не сможет. В руках у него целое состояние: перчатка и перо от дешевенького веера, а перед глазами под звуки мазурки плывут и плывут вдоль залы его Варенька и седой, но все еще красивый полковник с серебряными эполетами. Упоение любовью, окружающим миром сопровождает юношу в предрассветной прогулке к дому предмета обожания.
 «Сквозь строй». Иллюстрация В.Гильберта к рассказу Льва Толстого «После бала».
«Сквозь строй». Иллюстрация В.Гильберта к рассказу Льва Толстого «После бала».
Жили Корейши тогда на конце города, подле большого поля (Арское поле), на одном конце которого были гулянья, на другом – «девический институт» (это Родионовский институт благородных девиц). «В душе у меня все время пело». «Я был каким-то неземным существом, не знающим зла и способным на одно добро». «Я обнимал в то время весь мир своей любовью», – признавался Иван Васильевич.
Казалось, нет силы, которая могла бы помешать этой «способности любви ко всем и ко всему». Но зло, нацеленное на его разрушение, витало уже на балу. Сославшись на ранний подъем, воинский начальник уходит.
И молодому человеку все еще невдомек, что отец Вареньки с его «ласковой, похожей на нее, улыбкой» – палач.
НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ «ЗЕМНОГО ПРАВОСУДИЯ»
Развязка близка. «В конце поля, где был ее дом», сквозь рассеявшийся туман влюбленный увидел множество людей в черных мундирах, стоящих неподвижно двумя рядами друг против друга, а посреди рядов оголенного по пояс человека, привязанного к ружьям двух унтер-офицеров, ведущих его сквозь строй. Вместо спины несчастного было «что-то пестрое, мокрое, красное, неестественное» от ударов, сыпавшихся на него справа и слева. За исполнением жестокого и бесчеловечного закона следил идущий рядом полковник.
«Когда сердобольный, малорослый солдат ударил из жалости слабее, военный своей сильной рукой в замшевой перчатке ударил его по лицу». В человеке с румяным лицом, белыми усами и бакенбардами, руководившем экзекуцией, наш герой узнал отца Вареньки, к которому несколько часов назад испытывал, «восторженно-нежное чувство».
От потрясений, следовавших в это утро одно за другим «на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска. Казалось, что вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого»,– признавался Иван Васильевич.
В рассказе Толстой сосредоточил внимание не на великолепии бала в доме богача-хлебосола, губернского предводителя, а на сценах танцующей в паре с отцом дочери, наказании бежавшего из казармы солдата, состоянии нашего героя
Он не помнил, как добрался до дому, как лег, «но только стал засыпать», как перед глазами вставали то дергающийся всем телом татарин, то его сморщенное от страданий лицо, то превратившаяся в кровавую подушку спина, со свистом опускающиеся на нее палки; то слышался шепот: «Братцы, помилосердствуйте», то окрик: «Будешь мазать? Будешь? Я тебе помажу. Подать свежих шпицрутенов!»
Чтобы заглушить тоску невольному свидетелю «земного правосудия» ничего не оставалось, как пойти к приятелю и напиться с ним совсем пьяным, чтобы забыться.
НИГДЕ НЕ СЛУЖИЛ, НИКУДА НЕ ГОДИЛСЯ…
А жизнь для него с этого утра как бы разделилась на «до» и «после бала». Как только он вспоминал полковника на площади, «становилось как-то неловко, неприятно», и он стал меньше видеться с Варенькой, отчего «пошла на убыль» любовь. По этой же причине Иван Васильевич «не мог поступить в военную службу, как хотел прежде».
В рассказе он делает грустный вывод: «нигде не служил и никуда, как видите, не годился», иначе «не пришелся к месту в этой жизни».
В статье «Николай Палкин», созвучной с рассказом «После бала», обличая безнравственность, дикость применения телесных наказаний, бытовавших в армии при Николае I, «когда на 50 палок, и порток не снимали» (так это было привычно), Толстой говорит, что законы насилия, жестокости, возведенные даже в ранг необходимых, не позволят «избыть зло»
ОБРАЩАЛСЯ И К ЦАРЯМ, И К ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ
Искания весны 1847 года, когда у студента Казанского университета Льва Толстого появились правила жизни и первые записи в дневнике о духовном совершенствовании, развитии способностей, выборе цели «общей и полезной», связаны с Казанью, событиями, отраженными в рассказе. Память о происшедшем на плацу Арского поля кровоточила в душе писателя более полувека и не раз заставляла возвращаться к ней в художественных произведениях и публицистических статьях.
В статье «Николай Палкин», созвучной с рассказом «После бала», обличая безнравственность, дикость применения телесных наказаний, бытовавших в армии при Николае I, «когда на 50 палок, и порток не снимали» (так это было привычно), Толстой говорит, что законы насилия, жестокости, возведенные даже в ранг необходимых, не позволят «избыть зло». А в философии, способной объединять государство и людей, он просил не отвечать злом на зло, насилием на насилие, увеличивать не капитал, а душу.
Сегодня, когда человечество снова развязывает войны, устраивает террористические акты, преступает законы миролюбия, стоит прислушаться к яснополянскому мудрецу, который призывал «работать доброе», обнимать своей любовью мир, как это делал герой рассказа «После бала».
Наталья СМИРНОВА,
Алсу ХАЙРУЛЛИНА,
научные сотрудники
Национального музея РТ